Сочинение на тему защита отечества долг или обязанность: Защита Отечества Долг И Обязанность Гражданина Сочинение – Telegraph
Защита Отечества Долг И Обязанность Гражданина Сочинение – Telegraph
➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!
Защита Отечества Долг И Обязанность Гражданина Сочинение
Начни пользоваться проектом на полную катушку и получи бонус:
Ния Гурцкая, на голосовании 1 год назад
Защита отечества. Долг или священная обязанность
У
каждого человека есть две родины: малая и большая. Малая — это город, улица,
дом, где ты родился. Большая — это государство, страна, гражданином которой ты
являешься. А еще есть общая родина всех людей — планета Земля.
Родину
нужно любить и защищать, ведь только благодаря чувству патриотизма человек
становится частью своего народа. Сегодня защита родины — это такой же священный
долг и обязанность каждого, как и много лет назад. Многие ребята в наше время
не хотят служить в армии и делают всё для этого. Придумывают себе всякие болезни
или платят большие деньги. Но ведь это не правильно! Если так рассуждать, то
тогда кто будет защищать нашу Родину? Ведь испокон века мужчины всегда стояли
на защите нашей Родины. Мой брат недавно вернулся из армии, где за хорошую
Мой брат недавно вернулся из армии, где за хорошую
службу ему присвоили звание младшего сержанта. И я горжусь этим!
Защита Отечества – это священный долг и обязанность каждого
гражданина России. Потому что нет более высокой миссии на земле, чем
служить миру и защищать свою страну. Российские солдаты и офицеры всегда были
олицетворением чести, достоинства и патриотизма. Мы глубоко признательны воинам
всех поколений за мужество и героизм во имя Родины в годы тяжелых испытаний и
за ратный труд в мирное время.
Отечество не определяется какими то территориальными рамками, идеологией или иными признаками. Отечество – это нечто большее, нечто вдохновляющее и дающее жизнь. Отечеством можно назвать ту деревню, то село, город или область где ты родился, но Отечество – это страна в целом, со всей живописной природой, народами, традициями, обычаями. Не важно в какой части страны ты родился, Отечество это то что дает тебе право назвать себя русским, американцем, японцем или представителем другой национальности.
Так каким вопросом является защита Отечества? Я думаю по большей части моральным. Отечество дает нам все для хорошей жизни и развития -медицина, образование, юридическая безопасность. Тогда встает вопрос: почему Отечество не может дать нам защиту и защитить себя без нашего участия? Ответ прост. Отечество – это МЫ. Мы составляем основную единицу Отечества, и мы его основная опора. Отечество дает нам образование, чтобы мы могли позаботиться о других, обучить последующие поколения, развивать общество и культуру. И так ли это много, встать на защиту Отечества, когда это необходимо? Нет. Оно дает нам гораздо больше.
Живя в современном мире, каждый человек является гражданином того или иного государства. Защита государства, так же как и защита Отечества, является вопросом морали. Каждый человек использует гигантское количество ресурсов, которые в достатке производит Отечество. И его защита – это та меньшая плата, которую мы можем вернуть ему. Весной и осенью проводятся призывы в армию лишь для того, чтобы мы могли защитить себя и близких, родственников и друзей, стариков и инвалидов, женщин и детей.
Безусловно, призыв в армию является обязательным для каждого, но я считаю, что надо идти в армию «не потому что это так надо», а исходя из моральных убеждений и чувств благодарности и гордости за все, что дало Отечество. Его защита – долг каждого человека, гражданина.
Нажимая на кнопку, вы принимаете условия
пользовательского соглашения
Мы и наши партнеры используем файлы cookie, IP-адрес или информацию браузера для персонализации рекламы. Это помогает показывать более релевантную рекламу, а также использовать эти данные для настройки содержания веб-сайта для Вас. Поскольку мы ценим конфиденциальность, мы просим Вашего разрешения на использование этих технологий.
Хранение и (или) доступ к информации на устройстве
Создание персонализированного профиля рекламных объявлений
Выбор персонализированных рекламных объявлений
Создание профиля персонализированного контента
Выбор персонализированного контента
Использование маркетинговых исследований для получения результатов анализа аудитории
Разработка и совершенствование продуктов
Использование точных данных геолокации
Активное сканирование характеристик устройства для идентификации
Ответы Mail. ru: Сочинение -рассуждение на тему Защита отечества . Долг или обязанность?
ru: Сочинение -рассуждение на тему Защита отечества . Долг или обязанность?
Сочинение на тему защита отечества это долг и обязанность…
эссе на тему защита отечества долг или священная обязанность
«Защита Отечества – долг каждого гражданина»
Сочинение на тему защита отечества долг или священная…
Социальная Политика Государства Курсовая
Историческое Сочинение 1945 53
Сочинение По Литературе Печорин Герой Своего Времени
Растительный И Животный Мир Кубани Реферат 3
Структура Написания Эссе Ielts
|
В защиту разумного патриотизма.
 будут утверждать, что отдельные и обособленные политические сообщества — единственные места, где может осуществляться приличная и — особенно — демократическая политика.
будут утверждать, что отдельные и обособленные политические сообщества — единственные места, где может осуществляться приличная и — особенно — демократическая политика.Начну с некоторых концептуальных пояснений.
Космополитизм — это вероучение, которое придает первостепенное значение верности сообществу людей как таковым, независимо от различий по происхождению, убеждениям или политическим границам. Противоположностью космополитизму является партикуляризм , в котором человек в первую очередь предан группе или подмножеству людей с общими характеристиками. Существуют различные формы партикуляризма, отражающие различные объекты первичной лояльности — сообщества единоверцев (мусульманская умма ), этническая принадлежность и общее гражданство, среди прочего.
Патриотизм обозначает особую привязанность к определенному политическому сообществу, хотя и не обязательно для существующей формы правления. Национализм , с которым часто путают патриотизм, означает совсем другое явление — слияние, фактическое или желаемое, между общей этнической принадлежностью и государственным суверенитетом. Таким образом, национальное государство — это сообщество, в котором этническая группа является политически доминирующей и устанавливает условия общественной жизни.
Таким образом, национальное государство — это сообщество, в котором этническая группа является политически доминирующей и устанавливает условия общественной жизни.
Национализм, с которым часто путают патриотизм, означает совсем другое явление — слияние, фактическое или желаемое, между общей этнической принадлежностью и государственным суверенитетом.
Теперь к нашей теме. Собираемся сегодня под облаком. На Западе растут националистические силы, многие из которых пропитаны ксенофобией, этническими предрассудками и религиозным фанатизмом. Недавние выборы в Венгрии отличались откровенно антисемитской риторикой, невиданной в Европе с 1940-х годов. Гражданам предлагается отказаться от объединяющих гражданских принципов в пользу разделяющего и исключающего партикуляризма.
Заманчиво в ответ отвергнуть партикуляризм с корнем и ветвями и возложить наши надежды на чисто гражданские принципы — то есть принять то, что Юрген Хабермас назвал «конституционным патриотизмом». Но дело обстоит и не может быть так просто.
Но дело обстоит и не может быть так просто.
Соединенные Штаты часто считают родиной и образцом гражданского порядка. Говорят, что вы являетесь или становитесь американцем не из-за религии или этнической принадлежности, а потому, что вы подтверждаете и готовы защищать основные принципы и институты сообщества. «Все люди созданы равными». «Мы люди.» Что может быть яснее?
И тем не менее, тот самый документ, который классно считает некоторые истины самоочевидными, начинается с ссылки на концепцию, далеко не самоочевидную, а именно: отдельный народ может расторгнуть политические связи, связывающие его с другим народом и с занять «отдельное и равное положение» среди народов земли, на которое она имеет право не чем иным, как «законами природы и Бога природы». Равенство и независимость народов основываются на тех же источниках, что и права личности.
Но что такое народ и что отличает его от других? Так случилось, что Джон Джей, наименее известный из трех авторов «Федералиста», дальше всех продвинулся в решении этого вопроса. В «Федералисте 2» он писал, что «Провидению было угодно отдать эту одну соединенную страну одному объединенному народу — народу, происходящему от одних предков, говорящему на одном языке, исповедующему одну религию, приверженному одним и тем же принципам правления, очень похожи в своих манерах и обычаях, и которые совместными советами, оружием и усилиями, сражаясь бок о бок на протяжении долгой и кровавой войны, благородно установили свою общую свободу и независимость».
В «Федералисте 2» он писал, что «Провидению было угодно отдать эту одну соединенную страну одному объединенному народу — народу, происходящему от одних предков, говорящему на одном языке, исповедующему одну религию, приверженному одним и тем же принципам правления, очень похожи в своих манерах и обычаях, и которые совместными советами, оружием и усилиями, сражаясь бок о бок на протяжении долгой и кровавой войны, благородно установили свою общую свободу и независимость».
В то время это описание американского народа было правдой лишь отчасти. Это не относилось к афроамериканцам, не говоря уже о католиках и многих жителях колоний, для которых немецкий был языком повседневной жизни. Сегодня это гораздо менее верно. Тем не менее, он требует осмысления.
Мы можем прочесть, что Джей предполагает, что определенные общие черты способствуют идентичности и единству людей, и что отсутствие этих общих черт усложняет эту задачу. Религиозные разногласия могут вызывать разногласия, особенно когда они связаны с противоречивыми представлениями о правительстве, как это было с католицизмом до середины прошлого века и исламом сегодня.
Я полагаю, что не случайно нити универсальности и особенности переплетены через историю американского народа, как я подозреваю, для политических сообществ по всему Западу. Не случайно и то, что в периоды стресса — например, угроз безопасности и демографических изменений — скрытая напряженность между этими нитями часто вновь возникает. Разумный патриотизм отдает должное партикуляризму, не позволяя страстям партикуляризма заглушать голос более широких гражданских принципов.
Есть разница между космополитизмом и универсализмом. Мы говорим о некоторых принципах как об универсальных, имея в виду, что они применимы везде. Но для реализации этих принципов требуются институты правоприменения, чаще всего расположенные в определенных политических сообществах.
Как видите, нет никакого противоречия, по крайней мере на уровне принципов, между универсальными принципами права и патриотической привязанностью к отдельным сообществам. Фактически, для многих американцев и европейцев готовность их страны защищать универсальные принципы усиливает их патриотическую гордость. Универсальность обозначает область применения наших принципов; это не имеет ничего общего с масштабами нашей основной преданности.
Напротив, между патриотизмом и космополитизмом существует противоречие. Вы не можете быть одновременно гражданином мира и отдельной страны, по крайней мере, в том смысле, что нам часто приходится выбирать между тем, чтобы отдавать почетное место человечеству в целом, а не какой-то части человечества.
Существует противоречие между патриотизмом и космополитизмом. Вы не можете быть одновременно гражданином мира и отдельной страны, по крайней мере, в том смысле, что нам часто приходится выбирать между тем, чтобы отдавать почетное место человечеству в целом, а не какой-то части человечества.
Эта формулировка предполагает то, что некоторые оспаривали бы, а именно, что фраза «гражданин мира» имеет различимое значение. В широко обсуждаемой речи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «если вы считаете себя гражданином мира, вы гражданин ниоткуда». На первый взгляд это очевидно верно, потому что не существует глобальной сущности, которая могла бы быть гражданином 9.0055 из . Но если копнуть немного глубже, дело усложняется.
Например, мы можем наблюдать множество видов космополитических групп — например, ученых и математиков, чьи поиски истины зависят от принципов доказательства и разума, не учитывающих политических границ. Я, как сын ученого, хорошо помню конференции, на которых сотни коллег (сам термин показательный) собирались — неважно, где — чтобы обсудить свои последние эксперименты, где бы они ни проводились, на абсолютно общих основаниях. . Точно так же я подозреваю, что все мы слышали об организации «Врачи без границ», которая основывается на принципе, согласно которому ни человеческие потребности, ни медицинская ответственность не признают национальных границ.
Я, как сын ученого, хорошо помню конференции, на которых сотни коллег (сам термин показательный) собирались — неважно, где — чтобы обсудить свои последние эксперименты, где бы они ни проводились, на абсолютно общих основаниях. . Точно так же я подозреваю, что все мы слышали об организации «Врачи без границ», которая основывается на принципе, согласно которому ни человеческие потребности, ни медицинская ответственность не признают национальных границ.
Наконец, существует форма космополитизма, которую можно наблюдать среди некоторых правительственных чиновников — вера в то, что их долг — максимизировать человеческое благополучие, независимо от национальности тех, кому это выгодно. Этот глобальный утилитаризм, защищаемый такими философами, как Питер Сингер, сформировал мышление некоторых официальных лиц, которые успешно убедили тогдашнего премьер-министра Тони Блэра распахнуть иммиграционные ворота Великобритании после расширения ЕС в 2004 году, не воспользовавшись продленным периодом поэтапного внедрения. что позволяют условия присоединения. Как показали последующие события, существует противоречие между глобальным утилитаризмом и ожиданием того, что лидеры будут отдавать приоритет интересам своих собственных граждан. В самом деле, трудно представить себе политическое сообщество, в котором не господствует вера в легитимность коллективного личного предпочтения, что не означает, что большинство граждан придают нулевой вес интересам людей за пределами границ их сообщество, или что они должны сделать это. Самолюбование — это одно, моральная тупость — другое.
что позволяют условия присоединения. Как показали последующие события, существует противоречие между глобальным утилитаризмом и ожиданием того, что лидеры будут отдавать приоритет интересам своих собственных граждан. В самом деле, трудно представить себе политическое сообщество, в котором не господствует вера в легитимность коллективного личного предпочтения, что не означает, что большинство граждан придают нулевой вес интересам людей за пределами границ их сообщество, или что они должны сделать это. Самолюбование — это одно, моральная тупость — другое.
Существует различие, на котором мне нет нужды долго останавливаться, между либеральной и популистской демократией. В последнее время мы много слышим о «дефиците демократии» в Европейском союзе и на всем Западе. Дескать, неизбранные бюрократы и эксперты принимают решения через голову и вопреки воле народа. Популистские демократы поддерживают эту жалобу, по крайней мере, в принципе, потому что они считают, что все решения в конечном итоге должны приниматься на усмотрение народа.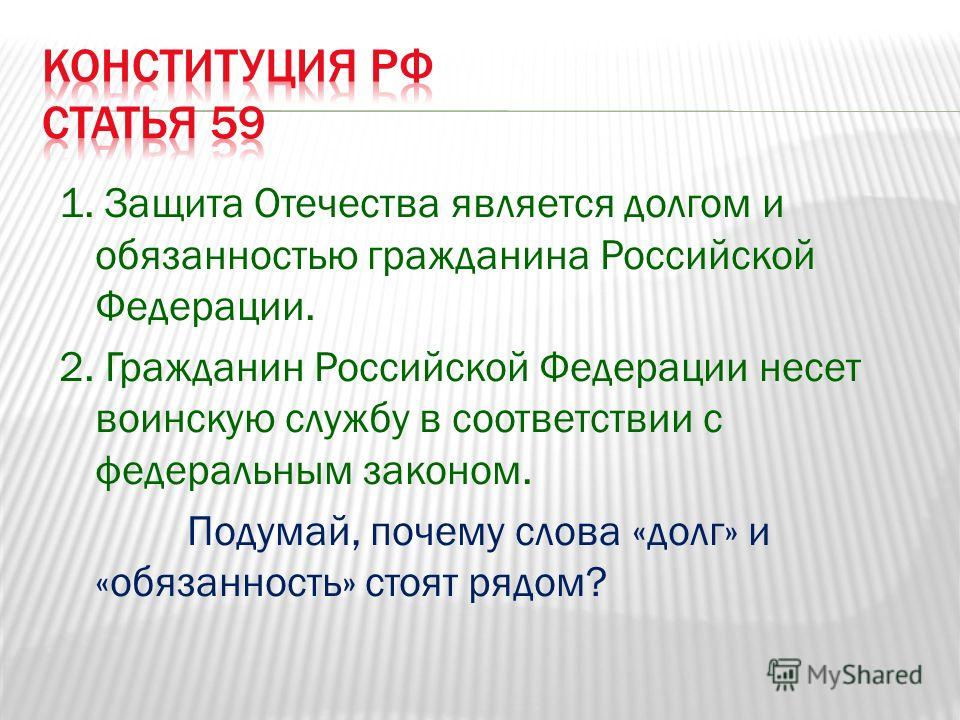 Референдум есть самое чистое выражение этой концепции демократии.
Референдум есть самое чистое выражение этой концепции демократии.
Либеральная демократия, напротив, проводит различие между решениями, которые должно принимать народное большинство либо непосредственно, либо через своих избранных представителей, и вопросами, связанными с правами, которые не должны подчиняться волеизъявлению большинства. Защита основных прав и свобод не является свидетельством дефицита демократии, как бы сильно это ни возмущало народное большинство. Наряду с независимым гражданским обществом такие институты, как конституционные суды, дают жизнь демократии в таком понимании. Именно на эту концепцию демократии я опираюсь в оставшейся части своих замечаний.
Как патриотизм может быть разумным
Философ Саймон Келлер подробно возражает против утверждения, что патриотизм — это «черта характера, которой должен обладать идеальный человек», по крайней мере, если представление о хорошем или добродетельном человеке включает склонность к формировать и действовать на основе обоснованной веры, а не искаженных суждений и иллюзий. Суть тезиса Келлера заключается в том, что патриотическая привязанность заставляет патриотов отрицать нелестную правду о поведении своей страны, следовательно, поддерживать свою привязанность «недобросовестно». Короче говоря, патриотизм должен уступить правде, но это не так.
Суть тезиса Келлера заключается в том, что патриотическая привязанность заставляет патриотов отрицать нелестную правду о поведении своей страны, следовательно, поддерживать свою привязанность «недобросовестно». Короче говоря, патриотизм должен уступить правде, но это не так.
Келлер указал на опасную тенденцию, которую, как я подозреваю, чувствует большинство из нас. Часто трудно признать, что чья-то страна допустила ошибку, возможно, даже совершила ужасные преступления. Иногда монстры маскируются под патриотов и манипулируют патриотическими чувствами в своих целях.
Так же, как патриоты могут сбиться с пути, они также могут признать свои ошибки и сделать все возможное, чтобы возместить их. Никто никогда не обвинял Рональда Рейгана в недостатке патриотизма, но именно он официально извинился перед американцами японского происхождения от имени страны за их несправедливое интернирование во время Второй мировой войны.
Но так же, как патриоты могут сбиться с пути, они также могут признать свои ошибки и сделать все возможное, чтобы возместить их.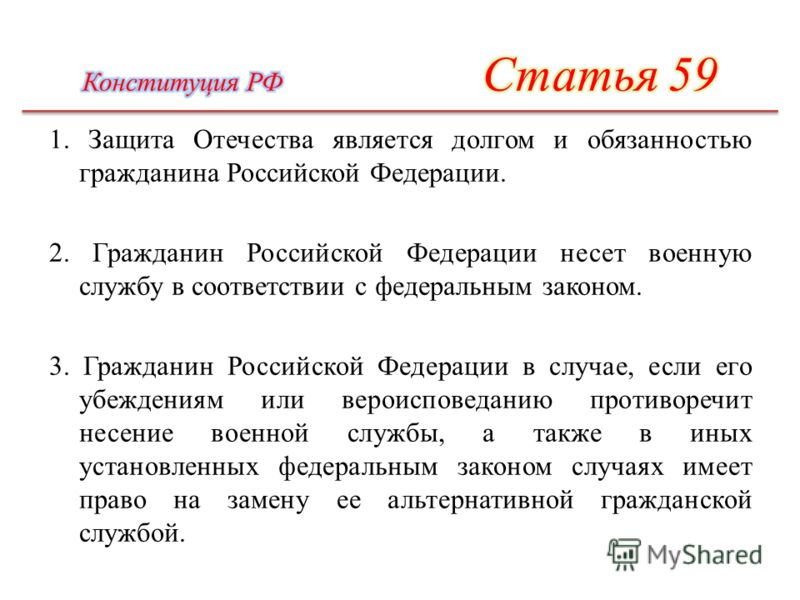 Никто никогда не обвинял Рональда Рейгана в недостатке патриотизма, но именно он официально извинился перед американцами японского происхождения от имени страны за их несправедливое интернирование во время Второй мировой войны.
Никто никогда не обвинял Рональда Рейгана в недостатке патриотизма, но именно он официально извинился перед американцами японского происхождения от имени страны за их несправедливое интернирование во время Второй мировой войны.
В классической аристотелевской манере патриотизм можно рассматривать как нечто среднее между двумя крайностями — слепым рвением к своей стране на одном конце континуума и преступным безразличием или откровенной враждебностью на другом. Или, если хотите, мы можем рассматривать патриотизм как чувство, которое нуждается в принципиальном регулировании. Карл Шурц, уехавший из Германии в Соединенные Штаты после неудавшейся революции 1848 года, стал генералом Союза во время Гражданской войны, а затем сенатором США. Нападки в сенатском зале за то, что он слишком готов критиковать свою приемную страну, Шурц ответил: «Моя страна, правильная или неправильная: если правильная, нужно оставаться правой; если неправильно, чтобы исправить ». Это голос разумного патриота.
Патриотизм не означает слепой верности, несмотря ни на что. Это означает, скорее, достаточно заботиться о своей стране, чтобы попытаться исправить ее, когда она сбивается с пути, и, когда это невозможно, сделать трудный выбор. Ряд нееврейских немецких патриотов покинули свою страну в 1930-х годах, потому что они не могли вынести того, что Гитлер делал с их еврейскими согражданами, не хотели быть замешанными и надеялись вступить в союз с внешними силами, которые могли бы в конечном итоге свергнуть Злой режим Гитлера.
В итоге: я могу поверить, что моя страна допустила серьезные ошибки, которые необходимо признать и исправить, не переставая быть патриотом. Я могу верить, что политические институты моей страны являются злом и нуждаются в полной замене, не переставая быть патриотом. Я могу верить, что другие объекты внимания (моя совесть или Бог) иногда превосходят мою страну, не переставая быть патриотом. То, что ревностный патриотизм может иметь ужасные последствия, не означает, что таковы последствия разумного и умеренного патриотизма.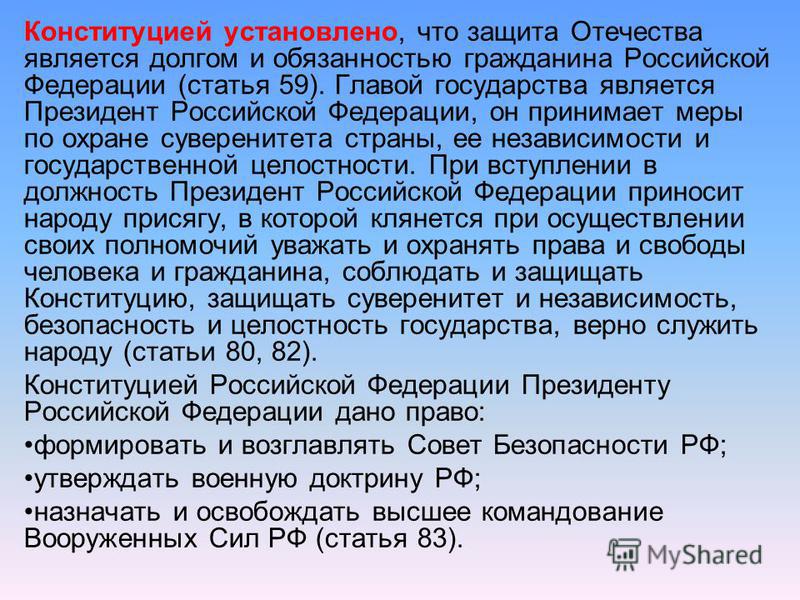
Тот факт, что ревностный патриотизм может иметь ужасные последствия, не означает, что таковы последствия разумного и умеренного патриотизма.
Несмотря на эти аргументы, вполне понятно, что морально серьезные люди могут продолжать сомневаться в внутренней ценности чувств, которые могут принести зло. Но даже в этом случае можно одобрить патриотизм как инструментальное благо, необходимое для сохранения политических сообществ, существование которых делает возможным человеческое благо.
Другой известный философ, Джордж Катеб, не решается даже на этот шаг. Патриотизм, утверждает он, является интеллектуальной ошибкой, потому что его объект, собственная страна, является «абстракцией», то есть «плодом воображения». Патриотизм является моральной ошибкой, потому что он требует (и имеет тенденцию создавать) врагов, возвышает коллективную форму себялюбия и противостоит единственно оправданной морали, которая является универсалистской. Люди и их права являются фундаментальными; чья-то страна, говорит он, является в лучшем случае «временной и случайной остановкой на пути к федеративному человечеству».
Интеллектуалы, особенно философы, должны знать лучше, настаивает Катеб. Их единственное окончательное обязательство должно заключаться в независимости разума в стиле Просвещения не только для себя, но и как источник вдохновения для всех. В этом контексте «защита патриотизма — это нападение на Просвещение». С этой точки зрения трудно понять, как гражданская добродетель может быть полезной с инструментальной точки зрения, если цель, которой она служит — сохранение определенного политического сообщества — сомнительна с интеллектуальной и моральной точек зрения.
Но Катеб слишком честный наблюдатель за состоянием человека, чтобы зайти так далеко. В то время как существование множества политических сообществ гарантирует аморальное поведение, правительство, по его признанию, является не просто прискорбным фактом, а моральной необходимостью: «Обеспечивая безопасность, правительство позволяет относиться к другим людям нравственно (и ради них самих)». Казалось бы, отсюда следует, что убеждения и черты характера, способствующие выполнению государством функции обеспечения безопасности, ipso facto инструментально оправданы как гражданские добродетели. Это основа, на которой можно определить и защитить разумный патриотизм. Да, индивидуальное сообщество, которое делает возможным нравственное поведение, встроено в международную систему множества конкурирующих сообществ, которая поощряет и даже требует аморального поведения. Но, как правильно говорит Катеб, вместо того, чтобы постулировать несуществующее глобальное сообщество и воздействовать на него, «нужно научиться жить с парадоксом». Пока надо, будет место патриотизму.
Это основа, на которой можно определить и защитить разумный патриотизм. Да, индивидуальное сообщество, которое делает возможным нравственное поведение, встроено в международную систему множества конкурирующих сообществ, которая поощряет и даже требует аморального поведения. Но, как правильно говорит Катеб, вместо того, чтобы постулировать несуществующее глобальное сообщество и воздействовать на него, «нужно научиться жить с парадоксом». Пока надо, будет место патриотизму.
Не лучше ли распространить, а значит, смягчить угрозу тирании с несколькими независимыми государствами, чтобы, если одни пойдут плохо, другие остались защищать дело свободы?
Еще один шаг, и я подойду к концу этой нити моих рассуждений. Существование множественных политических сообществ — это не просто факт, который необходимо учитывать с точки зрения морали; оно предпочтительнее единственной неанархической альтернативы — единого глобального государства. Дани Родрик, политически проницательный экономист, разъясняет этот случай.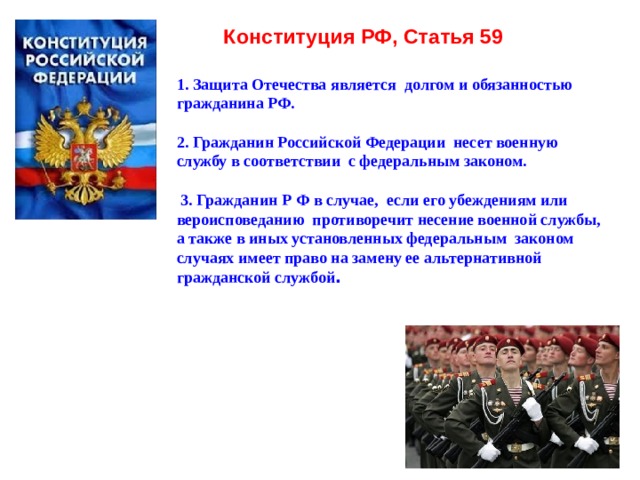 Существует множество институциональных механизмов, ни один из которых явно не превосходит другие, для выполнения основных экономических, социальных и политических функций. Но некоторые из них могут лучше других подходить к конкретным местным условиям. Группы будут находить различные балансы между равенством и возможностями, стабильностью и динамизмом, безопасностью и инновациями. Перед лицом знаменитого описания капиталистических рынков Йозефом Шумпетером как «созидательно-разрушительного» некоторые группы примут творческое начало, в то время как другие уклонятся от разрушения. Все это до того, как мы дойдем до разделения языка, истории и религии. Отдельные страны изо всех сил пытаются сдержать эти различия, не подавляя их. Насколько вероятно, что единственное мировое правительство сможет сохранить себя без автократии или того хуже? Не лучше ли распространить, а значит, смягчить угрозу тирании с несколькими независимыми государствами, чтобы, если одни потерпят неудачу, другие остались защищать дело свободы?
Существует множество институциональных механизмов, ни один из которых явно не превосходит другие, для выполнения основных экономических, социальных и политических функций. Но некоторые из них могут лучше других подходить к конкретным местным условиям. Группы будут находить различные балансы между равенством и возможностями, стабильностью и динамизмом, безопасностью и инновациями. Перед лицом знаменитого описания капиталистических рынков Йозефом Шумпетером как «созидательно-разрушительного» некоторые группы примут творческое начало, в то время как другие уклонятся от разрушения. Все это до того, как мы дойдем до разделения языка, истории и религии. Отдельные страны изо всех сил пытаются сдержать эти различия, не подавляя их. Насколько вероятно, что единственное мировое правительство сможет сохранить себя без автократии или того хуже? Не лучше ли распространить, а значит, смягчить угрозу тирании с несколькими независимыми государствами, чтобы, если одни потерпят неудачу, другие остались защищать дело свободы?
Ответы на эти вопросы сами собой. Если человеческий вид лучше всего организует и управляет собой в многочисленных сообществах, и если каждое сообщество требует преданных граждан для выживания и процветания, тогда патриотизм не является путевой станцией к универсальному государству. Это постоянное требование для реализации благ, которые люди могут знать только в стабильном и достойном государстве.
Если человеческий вид лучше всего организует и управляет собой в многочисленных сообществах, и если каждое сообщество требует преданных граждан для выживания и процветания, тогда патриотизм не является путевой станцией к универсальному государству. Это постоянное требование для реализации благ, которые люди могут знать только в стабильном и достойном государстве.
Почему беспристрастность не всегда правильна
Одна известная линия возражений против патриотизма основывается на предпосылке, что пристрастность всегда подозрительна с моральной точки зрения, потому что она нарушает или, по крайней мере, сокращает общечеловеческие нормы. Утверждается, что, обращаясь с равными по морально произвольным причинам неодинаково, мы придаем слишком большое значение одним утверждениям и слишком малое значение другим.
Критики отмечают, что патриоты преданы тому или иному политическому строю, потому что он их собственный, а «не только» потому, что он законен. Это правда, но что с того? Мой сын оказался прекрасным молодым человеком; Я дорожу им за его теплое, заботливое сердце, среди многих других достоинств. Я также лелею его выше других детей, потому что он мой собственный. Совершаю ли я моральную ошибку? Я был бы таковым, если бы моя любовь к сыну заставляла меня относиться к другим детям с безразличием — например, если бы я голосовал против местных налогов на недвижимость, потому что он уже не школьный возраст. Но вполне возможно любить своих, не становясь ни нравственно узкими, ни неразумными, ни тем более иррациональными.
Я также лелею его выше других детей, потому что он мой собственный. Совершаю ли я моральную ошибку? Я был бы таковым, если бы моя любовь к сыну заставляла меня относиться к другим детям с безразличием — например, если бы я голосовал против местных налогов на недвижимость, потому что он уже не школьный возраст. Но вполне возможно любить своих, не становясь ни нравственно узкими, ни неразумными, ни тем более иррациональными.
Вполне возможно любить своих, не становясь морально ограниченными или неразумными, не говоря уже о иррациональных. Это так, потому что определенная степень пристрастности допустима и оправдана.
Это так, потому что определенная степень пристрастности допустима и оправдана. Два примера философов подтвердят мою точку зрения. Если я загораю на пляже и слышу, как два юных пловца — мой сын и кто-то еще — кричат о помощи, я должен захотеть спасти обоих, если смогу. Но предположим, что я не могу. Неужели кто-то действительно думает, что я обязан подбрасывать монетку, чтобы решить, какую из них выбрать? Согласно какой теории человеческого существования это было бы правильным или обязательным?
А теперь второй пример. Когда я провожу своего сына в школу, я вижу мальчика, которому грозит опасность утонуть в местной купальне, где он неблагоразумно прогуливается. Хотя я почти уверен, что смогу его спасти, потребуется время, чтобы вытащить его, высушить, успокоить и вернуть родителям. При этом мой сын опоздает в школу и пропустит экзамен, к которому он усердно готовился. Кто-нибудь думает, что этот вред оправдал бы меня, если бы я повернулся спиной к тонущему мальчику?
Когда я провожу своего сына в школу, я вижу мальчика, которому грозит опасность утонуть в местной купальне, где он неблагоразумно прогуливается. Хотя я почти уверен, что смогу его спасти, потребуется время, чтобы вытащить его, высушить, успокоить и вернуть родителям. При этом мой сын опоздает в школу и пропустит экзамен, к которому он усердно готовился. Кто-нибудь думает, что этот вред оправдал бы меня, если бы я повернулся спиной к тонущему мальчику?
Эти соображения относятся не только к отдельным агентам, но и к правительствам. Бывают ситуации, когда одна страна может предотвратить великое зло в другой и сделать это с умеренными затратами для себя. В таких обстоятельствах добро, которое можно сделать для дальних незнакомцев, перевешивает бремя этого. В этом ключе Билл Клинтон сказал, что его неспособность вмешаться против геноцида в Руанде была самой большой ошибкой его президентства.
Происходящее, я думаю, очевидно: в обыденном моральном сознании вес имеют как пристрастные, так и беспристрастные претензии, правильный баланс между которыми определяется фактами и обстоятельствами. Хотя трудно (некоторые сказали бы, что невозможно) свести этот баланс к правилам, существует, по крайней мере, общая структура, основанная на безотлагательности и важности конфликтующих интересов, которая направляет наши размышления. Как правило, мы можем предположить, что, поскольку люди слишком склонны к пристрастности, мы должны быть осторожны, чтобы отдать должное нелицеприятным утверждениям. Но это не значит, что они всегда должны преобладать.
Хотя трудно (некоторые сказали бы, что невозможно) свести этот баланс к правилам, существует, по крайней мере, общая структура, основанная на безотлагательности и важности конфликтующих интересов, которая направляет наши размышления. Как правило, мы можем предположить, что, поскольку люди слишком склонны к пристрастности, мы должны быть осторожны, чтобы отдать должное нелицеприятным утверждениям. Но это не значит, что они всегда должны преобладать.
Почему патриотизм не так уж отличается от других лояльностей
Чувствуя опасность слишком многого, критики патриотизма отказываются от коренного отказа от пристрастности. Вместо этого они пытаются вбить клин между патриотизмом и другими формами привязанности.
Джордж Катеб не предлагает обобщенной критики частичной привязанности. Вместо этого, утверждает он, патриотизм представляет собой неправильное пристрастие, потому что его объект — собственная страна — является абстракцией, причем вводящей в заблуждение. Люди реальны; страны нет. Отдельные люди заслуживают особой привязанности, в отличие от стран. Вот почему он так усердно работает, чтобы вбить клин между любовью к родителям и любовью к стране.
Отдельные люди заслуживают особой привязанности, в отличие от стран. Вот почему он так усердно работает, чтобы вбить клин между любовью к родителям и любовью к стране.
Страна — это, помимо прочего, место, язык («родной язык»), образ жизни и набор институтов, посредством которых принимаются и осуществляются коллективные решения. Можно разумно любить эти вещи, и многие так и делают.
Не согласен. Хотя любовь к родителям и родине не одно и то же, из этого не следует, что родина не может быть законным объектом привязанности. Конечно, страна не человек, но напрашивается вопрос, что любовь правильно направлена только на людей. Не злоупотребляя ни речью, ни разумом, я говорю, что люблю свой дом и по этой причине чувствовал бы печаль и лишения, если бы несчастье заставило меня покинуть его. (У меня был такой опыт.) Страна — это, помимо прочего, место, язык («родной язык»), образ жизни и набор институтов, через которые принимаются и осуществляются коллективные решения. Можно разумно любить эти вещи, и многие так и делают.
Можно разумно любить эти вещи, и многие так и делают.
Рассмотрим иммигрантов, которые легально прибывают в США из бедных и жестоких земель. Их жизнь в новой стране часто трудна, но они, по крайней мере, пользуются защитой закона, возможностью экономического роста и правом участвовать в выборе избранных должностных лиц. Неразумно ли им испытывать благодарность, умиление и желание оказать ответную услугу стране, приютившей их?
Катеб явно прав, настаивая на том, что граждане не обязаны своим «рождением» своей стране так, как дети обязаны своим существованием своим родителям. Но и здесь его заключение не следует из его посылки. Конечно, мы можем любить людей, которые не несут ответственности за наше существование: родители любят своих детей, мужья своих жен. Кроме того, своим существованием беженцы могут буквально обязаны странам, которые предлагают им убежище от насилия. Разве менее разумно и правильно любить институты, которые спасают нам жизнь, чем людей, дающих нам жизнь?
Как предположил другой философ, Имонн Каллан, если патриотизм — это любовь к стране, то общие черты любви, вероятно, прояснят этот пример. Среди его ключевых тезисов: «любовь может быть восхитительной, когда направлена на объекты, ценность которых сильно скомпрометирована, и восхитительна тогда не вопреки, а благодаря скомпрометированной ценности». Примером тому служит любовь родителей к взрослому ребенку, совершившему тяжкое преступление, связь, демонстрирующая достоинства постоянства и верности. Это не означает, что родители вправе отрицать реальность поступков своего ребенка или придумывать для них фиктивные оправдания. Сделать это означало бы отказаться как от интеллектуальной, так и от моральной целостности. Но сказать, что родительская любовь рискует переступить черту таким образом, не значит сказать, что родители обязаны повернуться спиной к преступникам, которые оказались их детьми, или прекратить все усилия по их исправлению. (И это не вина родителей, которые пришли к мучительному выводу, что они должны разорвать эти связи.)
Среди его ключевых тезисов: «любовь может быть восхитительной, когда направлена на объекты, ценность которых сильно скомпрометирована, и восхитительна тогда не вопреки, а благодаря скомпрометированной ценности». Примером тому служит любовь родителей к взрослому ребенку, совершившему тяжкое преступление, связь, демонстрирующая достоинства постоянства и верности. Это не означает, что родители вправе отрицать реальность поступков своего ребенка или придумывать для них фиктивные оправдания. Сделать это означало бы отказаться как от интеллектуальной, так и от моральной целостности. Но сказать, что родительская любовь рискует переступить черту таким образом, не значит сказать, что родители обязаны повернуться спиной к преступникам, которые оказались их детьми, или прекратить все усилия по их исправлению. (И это не вина родителей, которые пришли к мучительному выводу, что они должны разорвать эти связи.)
Заключение: последняя полная мера преданности
Есть еще одно возражение против моей концепции разумного патриотизма: иррационально выбирать жизнь, которая подвергает вас повышенному риску умереть за свою страну. Возражающий может сказать, что нет ничего, за что стоило бы умирать, — предложение, которое я отвергаю. Чаще высказывается предположение, что даже если есть вещи, за которые можно пожертвовать жизнью (например, дети), страна не относится к этой категории. Дети конкретны и невинны, а страны абстрактны («воображаемые сообщества», по выражению Бенедикта Андерсона) и проблематичны.
Возражающий может сказать, что нет ничего, за что стоило бы умирать, — предложение, которое я отвергаю. Чаще высказывается предположение, что даже если есть вещи, за которые можно пожертвовать жизнью (например, дети), страна не относится к этой категории. Дети конкретны и невинны, а страны абстрактны («воображаемые сообщества», по выражению Бенедикта Андерсона) и проблематичны.
Политическое сообщество должно быть морально безупречным, чтобы за него можно было убивать или умирать? Соединенные Штаты были страной с глубокими недостатками, когда они начали войну после нападения на Перл-Харбор. Военнослужащие на нормандских пляжах не питали ни одной из тех иллюзий, которые заставляли молодых англичан приветствовать начало Первой мировой войны; Солдаты боролись против чистого зла во имя частичного добра. Они не ошиблись и не были обмануты, по крайней мере, так я думаю.
Предположим, что ваша страна подверглась нападению и погибли тысячи сограждан. Является ли все, что делается в ответ, проявлением заблуждения? Вовсе нет: некоторые реакции необходимы и оправданы; другие являются чрезмерными и незаконными. Я выступал за возмездие против талибов, которые просили некоторых американцев убивать и умирать за свою страну. Большинство американцев согласились, и я думаю, что мы были правы. Нападать на тех, кто не нападал на нас, было — и есть — совсем другое дело.
Я выступал за возмездие против талибов, которые просили некоторых американцев убивать и умирать за свою страну. Большинство американцев согласились, и я думаю, что мы были правы. Нападать на тех, кто не нападал на нас, было — и есть — совсем другое дело.
Пока у нас есть несколько сообществ и пока существует зло, граждане будут сталкиваться с выбором, которого они предпочли бы избегать, а патриотизм будет необходимой добродетелью.
За критикой патриотизма скрывается стремление к недостижимой нравственной чистоте в политике. Я поддерживаю Макса Вебера, придерживаясь этики ответственности, которая включает в себя необходимые моральные издержки поддержания нашего коллективного существования — тем более, что наше правительство опирается на согласие управляемых. Только в приличных политических сообществах граждане могут надеяться практиковать обычную мораль, которой мы по праву дорожим. Пока у нас есть несколько сообществ и пока существует зло, граждане будут сталкиваться с выбором, которого они предпочли бы избежать, и патриотизм будет необходимой добродетелью.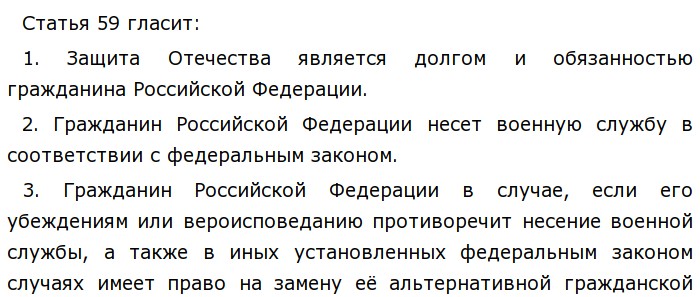
Германия стала толерантной нацией только маленькими, болезненными шагами
После 12 лет фашизма, шести лет войны и концентрированного геноцида Холокоста национализм должен был быть полностью дискредитирован. Но это не так. Десятилетиями сохранялись националистические настроения. Они преобладали по обе стороны так называемого «железного занавеса» и преобладали на Глобальном Севере, а также в развивающихся странах Глобального Юга. Даже в Федеративной Республике Германии отворачиваются от «клетки под названием Отечество» — как говорит главный герой романа Вольфганга Кеппена Китенхойве 9.0009 Теплица (1953), называвшая его удручающе националистической Западной Германией, началась не сразу.
Однако, когда поворот все-таки начнется, страна Китенхьюв отправится в замечательное путешествие — не мчащееся по шоссе к космополитизму, а скорее медленное, требующее серии небольших шагов, ведущих к постепенному созданию более миролюбивой , разнообразная и исторически честная нация – лучшая Германия.
После краха Третьего рейха немцы широко обвиняли другие страны во Второй мировой войне. «Каждый немец знает, что мы не виновны в развязывании войны», — утверждала в 1919 году нацистская журналистка Хильдегарда Розелиус.46. С «каждым немцем» это знакомство американского фотографа Маргарет Бурк-Уайт, безусловно, преувеличено. Но в 1952 году 68% опрошенных немцев дали другой ответ, чем «Германия», на вопрос о том, кто развязал Вторую мировую войну, и только в 1960-х годах это мнение оказалось в меньшинстве.
В середине 1950-х почти половина всех опрошенных немцев ответили «да» на утверждение, что «если бы не война, Гитлер был бы одним из величайших государственных деятелей 20-го века». До конца 19-го векаВ 50-е годы почти 90% ответили иначе, чем «да», когда их спросили, должна ли их страна признать линию Одер-Нейсе, новую границу с Польшей. Возможно, наиболее показательным было их отношение к евреям. 12 июня 1946 года Ханна Арендт рискнула сказать Дольфу Штернбергеру, одному из самых видных публицистов оккупированной Германии, что «Германия никогда не была более антисемитской, чем сейчас». как принадлежность к другой расе, в то время как только 10% думали об англичанах в таких терминах.
как принадлежность к другой расе, в то время как только 10% думали об англичанах в таких терминах.
Сумма этих мнений позволяет предположить, что клетка Китенхёва под названием «Отечество» оставалась закрытой более двух десятилетий после падения Третьего рейха.
Как и в большинстве стран Европы, да и всего мира, в Германии не было мощного альтернативного националистическому дискурсу. До 1970-х годов Декларация прав человека Организации Объединенных Наций не имела большого влияния в послевоенной Европе. Региональная принадлежность, например, к Европе (или к панафриканизму или панарабизму), была более жизнеспособной, но пока ограничивалась небольшим числом элит. Решительная защита капитализма также мало способствовала истощению запаса националистических клише. А на западной стороне железного занавеса антикоммунизм поддерживал, а не подрывал вдохновленный нацистами национализм.
Более того, послевоенный мир был наводнен новыми национальными государствами, особенно когда он перешел в постколониальную эру. В 1945 году в ООН была представлена только 51 независимая страна: 30 лет спустя их было 144. Будь то Индия Джавахарлала Неру или Гана Кваме Нкрумы, национализм и обещания самоопределения разожгли антиколониальные движения за независимость в Азии и Африке. В Европе национализм также продолжал формировать притязания на групповые права и территориальные границы. В Германии, разделенной и не полностью суверенной до 1990, в нем обсуждались вопросы возможного объединения, права изгнанных этнических немцев вернуться на свои восточноевропейские родные земли и законность восточных границ Германии. Действительно, только в 1970 году, спустя четверть века после войны, Федеративная Республика Германия наконец признала законной границу Германии (установленную на Потсдамской конференции в 1945 году) с Польшей. И все же против признания выступила почти половина граждан Западной Германии.
В 1945 году в ООН была представлена только 51 независимая страна: 30 лет спустя их было 144. Будь то Индия Джавахарлала Неру или Гана Кваме Нкрумы, национализм и обещания самоопределения разожгли антиколониальные движения за независимость в Азии и Африке. В Европе национализм также продолжал формировать притязания на групповые права и территориальные границы. В Германии, разделенной и не полностью суверенной до 1990, в нем обсуждались вопросы возможного объединения, права изгнанных этнических немцев вернуться на свои восточноевропейские родные земли и законность восточных границ Германии. Действительно, только в 1970 году, спустя четверть века после войны, Федеративная Республика Германия наконец признала законной границу Германии (установленную на Потсдамской конференции в 1945 году) с Польшей. И все же против признания выступила почти половина граждан Западной Германии.
Привычки мышления когда-то нацистской вооруженной нации составляли один набор подкреплений
Распространенность исключающего национализма в послевоенный период также отражала новую лежащую в основе реальность. Вторая мировая война создала Европу, состоящую из почти однородных национальных государств. Ряд западноевропейских стран, которые сейчас считаются разнообразными, в то время были прямо противоположными. Население Западной Германии, родившееся в чужой стране, составляло всего 1,1 процента, и этот мизерный процент оказался парадигмой для мозаичного континента в целом. В Нидерландах еще меньше иностранцев, а в Бельгии, Франции и Великобритании иностранцы составляют менее 5% населения. В межвоенные годы в восточноевропейских странах, таких как Польша и Венгрия, проживали значительные этнические меньшинства и большое еврейское население. В послевоенный период и тех, и других практически не было, и поляки и венгры были в значительной степени предоставлены сами себе.
Вторая мировая война создала Европу, состоящую из почти однородных национальных государств. Ряд западноевропейских стран, которые сейчас считаются разнообразными, в то время были прямо противоположными. Население Западной Германии, родившееся в чужой стране, составляло всего 1,1 процента, и этот мизерный процент оказался парадигмой для мозаичного континента в целом. В Нидерландах еще меньше иностранцев, а в Бельгии, Франции и Великобритании иностранцы составляют менее 5% населения. В межвоенные годы в восточноевропейских странах, таких как Польша и Венгрия, проживали значительные этнические меньшинства и большое еврейское население. В послевоенный период и тех, и других практически не было, и поляки и венгры были в значительной степени предоставлены сами себе.
Европейцы в пучине деглобализации тоже часто не выходили за свои границы, и немцы не были исключением. В 1950 году большинство немцев никогда не были за границей, кроме как в качестве солдат. Около 70 процентов взрослых женщин вообще никогда не покидали Германию. Путешествия, роскошь, которой наслаждались немногие, начали набирать обороты только в середине 1950-х годов, а международные путешествия стали по-настоящему массовым явлением только в 1970-х, когда у большинства людей были собственные автомобили. В первые десятилетия туризма немцы в основном посещали немецкоязычные направления, такие как замки на Рейне или северные склоны Альп. В эти десятилетия немногие немцы, за исключением высокообразованных, знали иностранные языки, и большинство других европейцев, если не считать рабочих-мигрантов, ничем не отличались.
Путешествия, роскошь, которой наслаждались немногие, начали набирать обороты только в середине 1950-х годов, а международные путешествия стали по-настоящему массовым явлением только в 1970-х, когда у большинства людей были собственные автомобили. В первые десятилетия туризма немцы в основном посещали немецкоязычные направления, такие как замки на Рейне или северные склоны Альп. В эти десятилетия немногие немцы, за исключением высокообразованных, знали иностранные языки, и большинство других европейцев, если не считать рабочих-мигрантов, ничем не отличались.
Таким образом была укреплена клетка под названием Отечество. Сохранение в мире национализма образа мыслей некогда нацистской вооруженной нации составляло один набор подкреплений. Относительная однородность послевоенных наций и отсутствие опыта мирного времени за границей составляли другую проблему. Было также третье усиление, удерживающее клетку закрытой. Это было то, что немцам было что скрывать.
В послевоенное время в Германии было полно военных преступников. Европейские суды осудили около 100 000 немецких (и австрийских) правонарушителей. Сумма обвинительных приговоров, вынесенных союзниками по Второй мировой войне, включая США, Советский Союз и Польшу, еще больше увеличивает это число, равно как и более 6000 правонарушителей, которых западногерманские суды отправили бы в тюрьму, и почти 13 000 преступников, приговоренных к тюремному заключению. гораздо более суровый судебный режим Восточной Германии осужден.
Европейские суды осудили около 100 000 немецких (и австрийских) правонарушителей. Сумма обвинительных приговоров, вынесенных союзниками по Второй мировой войне, включая США, Советский Союз и Польшу, еще больше увеличивает это число, равно как и более 6000 правонарушителей, которых западногерманские суды отправили бы в тюрьму, и почти 13 000 преступников, приговоренных к тюремному заключению. гораздо более суровый судебный режим Восточной Германии осужден.
Тем не менее, многое еще предстояло скрыть. Ниже в нацистской цепочке командования пугающее количество преступников различных оттенков соучастия отделались без наказания или последствий. Достаточно двух резких примеров. Только 10 процентов немцев, когда-либо работавших в Освенциме, даже предстали перед судом, и только 41 из примерно 50 000 членов кровавых немецких полицейских батальонов, ответственных за убийство полумиллиона человек, когда-либо видели внутреннюю часть тюрьмы.
Суды и приговоры раскрывают лишь часть истории соучастия. Многие немцы, не причастные непосредственно к преступлениям, получили недорогое имущество и товары. Подробные отчеты из северогерманского города Гамбург показывают, что только в одном этом городе около 100 000 человек купили конфискованные товары на аукционах еврейских товаров. По всей Федеративной Республике дома, синагоги и предприятия, когда-то принадлежавшие соседям-евреям, теперь оказались в руках немцев. Mutatis mutandis , то, что было верно для числа людей, причастных к убийствам и грабежам Третьего рейха, также верно и в отношении того, что люди знали. « Davon haben wir nichts gewusst » («Мы ничего не знали об этом [убийстве евреев]»), — не уставали повторять западногерманские граждане в первые послевоенные десятилетия. Историки сейчас спорят о том, знали ли на самом деле треть или даже половина взрослого населения о массовых убийствах, даже если большинство ученых признает, что мало кто из немцев имел подробные сведения об Освенциме.
Многие немцы, не причастные непосредственно к преступлениям, получили недорогое имущество и товары. Подробные отчеты из северогерманского города Гамбург показывают, что только в одном этом городе около 100 000 человек купили конфискованные товары на аукционах еврейских товаров. По всей Федеративной Республике дома, синагоги и предприятия, когда-то принадлежавшие соседям-евреям, теперь оказались в руках немцев. Mutatis mutandis , то, что было верно для числа людей, причастных к убийствам и грабежам Третьего рейха, также верно и в отношении того, что люди знали. « Davon haben wir nichts gewusst » («Мы ничего не знали об этом [убийстве евреев]»), — не уставали повторять западногерманские граждане в первые послевоенные десятилетия. Историки сейчас спорят о том, знали ли на самом деле треть или даже половина взрослого населения о массовых убийствах, даже если большинство ученых признает, что мало кто из немцев имел подробные сведения об Освенциме.
Немцев здесь тоже разделила европейская судьба, хотя им было что скрывать. В своей новаторской статье «Прошлое — это другая страна: мифы и память в послевоенной Европе» (1992) покойный Тони Джадт указал на ставки, которые почти вся оккупированная Европа делала для сокрытия сотрудничества с нацистскими повелителями. Дело было не просто в забывчивости, как иногда полагают. Скорее, это включало в себя постоянное и сознательное сокрытие. В конце концов, многие люди (особенно в Восточной Европе, где проживало преобладающее число евреев) обогатились, просыпаясь, как говорится, в «еврейских мехах» и занимая еврейские дома, что, несомненно, было одним из величайших насильственных реальных действий. -усадебные трансферы современной истории.
В своей новаторской статье «Прошлое — это другая страна: мифы и память в послевоенной Европе» (1992) покойный Тони Джадт указал на ставки, которые почти вся оккупированная Европа делала для сокрытия сотрудничества с нацистскими повелителями. Дело было не просто в забывчивости, как иногда полагают. Скорее, это включало в себя постоянное и сознательное сокрытие. В конце концов, многие люди (особенно в Восточной Европе, где проживало преобладающее число евреев) обогатились, просыпаясь, как говорится, в «еврейских мехах» и занимая еврейские дома, что, несомненно, было одним из величайших насильственных реальных действий. -усадебные трансферы современной истории.
По всем этим причинам клетку под названием Отечество было нелегко покинуть, и вместо того, чтобы представлять себе секретный ключ, открывающий ее дверь, имеет смысл проследить тяжелую работу, связанную с освобождением трех ее основных измерений: воюющей нации. , однородная нация и нация прикрытия. Только после того, как западные немцы смогли распрощаться с этими ментальными шаблонами, они смогли начать выходить из клетки. К счастью, в послевоенную эпоху Германия была благословлена длительным процветанием, увеличением иммиграции и течением времени. Вместе с небольшими, часто смелыми шагами отдельных лиц и институтов эти факторы позволили западным немцам в конечном итоге принять мир, разнообразие и дело исторической правды: короче говоря, выйти из клетки.
К счастью, в послевоенную эпоху Германия была благословлена длительным процветанием, увеличением иммиграции и течением времени. Вместе с небольшими, часто смелыми шагами отдельных лиц и институтов эти факторы позволили западным немцам в конечном итоге принять мир, разнообразие и дело исторической правды: короче говоря, выйти из клетки.
Типичная для наций, когнитивно все еще находящихся в состоянии войны, проблема для многих немцев воспринималась как измена лет оккупации. Штернбергер, который отрезал букву «А» от своего имени, выступал за другой тип нации, который требовал открытости и вовлеченности, но не заканчивался прославлением убийств и смертей на войне или маргинализацией и преследованием других. . Нация как источник жизни, как попечитель своих граждан, а не как средство власти, экспансии, войны и смерти: таково было первоначальное видение Штернбергера.
Это была концепция Германии, которую западные немцы постепенно приняли, символически заменив государство войны государством всеобщего благосостояния, заменив казармы и танки универсальными магазинами и мощными автомобилями.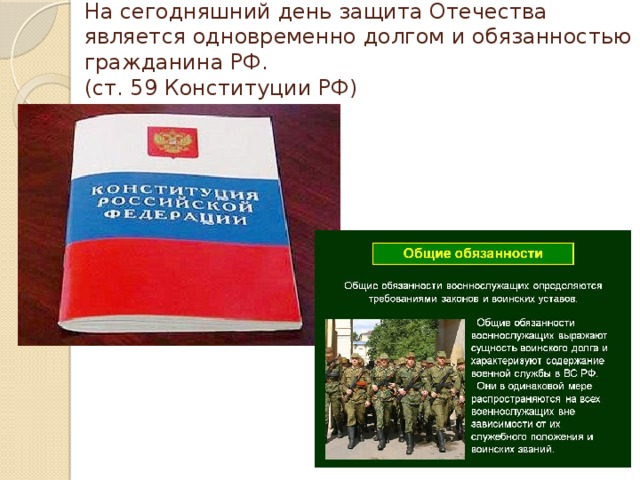 Благодаря бархатному переходу, когда ВВП на душу населения увеличился практически в четыре раза между 1950 и 1980 годами, немцы пришли к выводу, что их недавнее демократическое прошлое гораздо предпочтительнее даже мирных лет Третьего рейха. Забыв, насколько прочной и тесной была клетка в послевоенный период, современные критики часто насмехались над этим неглубоким объятием «демократии хорошей погоды». Тем не менее, теперь мы знаем более широко, что процветание и отсутствие войн являются фундаментальной предпосылкой глобального перехода к демократии, большая часть которого произошла в послевоенную эпоху. В 1939, примерно 12 процентов населения мира жили в демократиях, но к концу 20-го века их было почти 60 процентов.
Благодаря бархатному переходу, когда ВВП на душу населения увеличился практически в четыре раза между 1950 и 1980 годами, немцы пришли к выводу, что их недавнее демократическое прошлое гораздо предпочтительнее даже мирных лет Третьего рейха. Забыв, насколько прочной и тесной была клетка в послевоенный период, современные критики часто насмехались над этим неглубоким объятием «демократии хорошей погоды». Тем не менее, теперь мы знаем более широко, что процветание и отсутствие войн являются фундаментальной предпосылкой глобального перехода к демократии, большая часть которого произошла в послевоенную эпоху. В 1939, примерно 12 процентов населения мира жили в демократиях, но к концу 20-го века их было почти 60 процентов.
Медленный отход Германии от менталитета вооруженной нации был необходим для ее присоединения к демократиям мира. Но выход был отнюдь не легким. В этом контексте поучительна спорная увековечивание памяти консервативных участников сопротивления, которые пытались и не смогли убить Гитлера 20 июля 1944 года. В 1951 году около 40 процентов немцев заявили, что они за участников сопротивления, а около 30 процентов были против них, а остальные не знали о так называемой операции «Валькирия» или не были в этом уверены. Типичная для наций, когнитивно все еще находящихся в состоянии войны, проблема для многих немцев воспринималась как измена во время войны. Особенно это касалось мужчин. Более половины всех немецких мужчин считали покушение аморальным. И даже из тех, кто это одобрял, значительное число считало, что сопротивляющимся следовало подождать до окончания войны.
В 1951 году около 40 процентов немцев заявили, что они за участников сопротивления, а около 30 процентов были против них, а остальные не знали о так называемой операции «Валькирия» или не были в этом уверены. Типичная для наций, когнитивно все еще находящихся в состоянии войны, проблема для многих немцев воспринималась как измена во время войны. Особенно это касалось мужчин. Более половины всех немецких мужчин считали покушение аморальным. И даже из тех, кто это одобрял, значительное число считало, что сопротивляющимся следовало подождать до окончания войны.
Стойкость этого менталитета вооруженной нации затмила один из самых спорных вопросов ранней Федеративной Республики: воссоздание в 1955 году армии. Возникла широкая коалиция, включающая от церковных организаций до профсоюзов, чтобы предостеречь от последующей ремилитаризации немецкого общества. Когда стало ясно, что армия будет возрождена, те же активисты работали над тем, чтобы солдаты были «гражданами в погонах», готовыми отказаться от заведомо неэтичных приказов. Таким образом, в замысле новой армии, 9-й0009 Bundeswehr , олицетворявший неприятие прусских и нацистских традиций. Тем не менее около 80 процентов офицеров этой недавно созданной федеральной обороны когда-то служили в вермахте , вооруженных силах нацистской Германии.
Таким образом, в замысле новой армии, 9-й0009 Bundeswehr , олицетворявший неприятие прусских и нацистских традиций. Тем не менее около 80 процентов офицеров этой недавно созданной федеральной обороны когда-то служили в вермахте , вооруженных силах нацистской Германии.
Основные координаты вооруженной нации – как это было в первую четверть века после окончания Второй мировой войны. Однако постепенно европейцы, по словам военного историка Майкла Говарда, «изобрели мир» и стали воспринимать войну как неестественное состояние, неподходящее для цивилизованных обществ.
Спор шел не о том, следует ли разрешить иностранным рабочим остаться, а о том, на каких условиях и при какой поддержке
В послевоенной Германии отказ от военной службы по соображениям совести был надежным показателем этого нового отношения к миру. В первые годы бундесвера почти все призванные юноши явились на службу. Но к началу 1970-х годов количество заявлений о признании отказниками от военной службы по соображениям совести превысило 20 000 и продолжало расти на протяжении всей XIX в.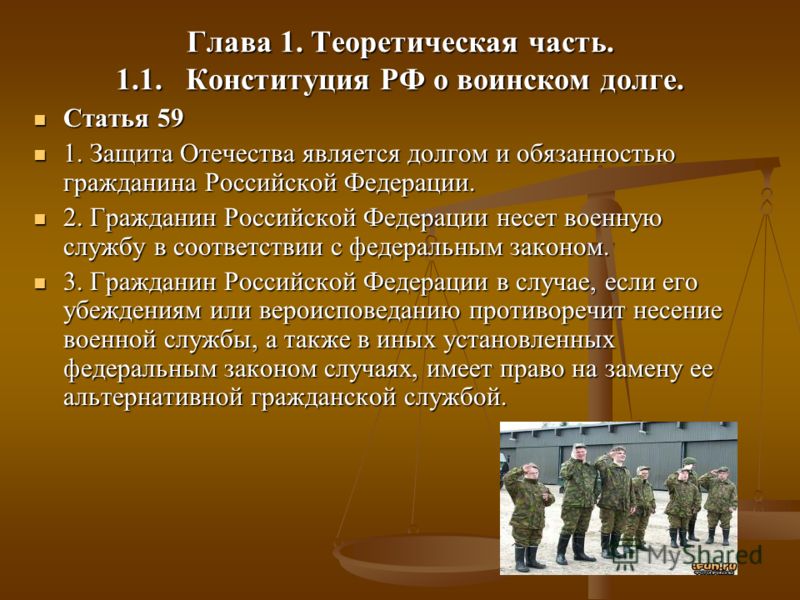 70-х и 80-х, так что за два года до объединения число претендентов приблизилось к 80 000 человек. К этому времени немецкие движения за мир, реагируя на то, что сверхдержавы превратили две Германии в вооруженные лагеря, подорвали престиж всего военного среди молодежи. К 2000 году немцы были одними из наименее желающих брать в руки оружие и сражаться за свою страну: только треть опрошенных заявили, что готовы это делать.
70-х и 80-х, так что за два года до объединения число претендентов приблизилось к 80 000 человек. К этому времени немецкие движения за мир, реагируя на то, что сверхдержавы превратили две Германии в вооруженные лагеря, подорвали престиж всего военного среди молодежи. К 2000 году немцы были одними из наименее желающих брать в руки оружие и сражаться за свою страну: только треть опрошенных заявили, что готовы это делать.
Выход из клетки под названием Отечество также был более длительным для тех, кто видел принадлежность по этническому признаку и представлял нации как этнически однородные единицы. Этот второй выход тоже начался позже противостояния с милитаристским прошлым Германии и, по иронии судьбы, это было строительство Берлинской стены 13 августа 1919 года.61, что сильно его ускорило. Стена, призванная положить конец оттоку квалифицированных молодых людей из Восточной Германии на Запад, в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе разожгла национальные страсти. Следующее поколение молодых западных немцев пришло к выводу, что решение «два государства, одна нация», как позже выразился канцлер Западной Германии Вилли Брандт, было постоянным. Стена также ускорила усилия Западной Германии по привлечению 90 009 гастарбайтеров 90 010 (гастарбайтеров) в связи с массовым притоком из Восточной Германии (более 3 миллионов человек в возрасте от 19 до 19 лет).45 и 1961) внезапно остановились.
Стена также ускорила усилия Западной Германии по привлечению 90 009 гастарбайтеров 90 010 (гастарбайтеров) в связи с массовым притоком из Восточной Германии (более 3 миллионов человек в возрасте от 19 до 19 лет).45 и 1961) внезапно остановились.

Уже начались дебаты, которые продолжаются и по сей день, о том, в какой степени Западная Германия стала тем, что Хайнц Кюн, уполномоченный по делам иностранцев в правительстве Гельмута Шмидта, назвал бы «нацией иммигрантов». Произошла необратимая ситуация, писал Кюн в 1919 г.79, и «тем, кто желает остаться… должна быть предложена безусловная и постоянная интеграция». остаться в Германии, но на каких условиях и с какой поддержкой. Это также способствовало зарождающейся дискуссии о том, в какой степени иностранцы были не гостями, а согражданами.
В жизни наций маленькие открытия могут иметь серьезные последствия. В эти послевоенные годы общее благополучие позволило немцам путешествовать как туристы, а не как солдаты, и действительно, ни одна крупная европейская страна не поставляла в другие европейские страны столько туристов, сколько Западная Германия. Что еще более важно, процветание продолжало привлекать рабочих в Федеративную Республику. К концу века в объединенной Германии будет проживать иностранцев примерно в восемь раз больше, чем в 1950 году; в процентном отношении население иностранного происхождения в 2000 году ненамного отставало от населения США.
Тем не менее, несмотря на то, что замкнутость предыдущих десятилетий исчезла, этническая сегрегация осталась, а антииностранные настроения продолжали отравлять как частную, так и общественную сферу. Действительно, после объединения в 1990 году оно разразилось большим насилием, чем когда-либо прежде. Начиная с городов на востоке, где был высокий уровень безработицы, перспективы были мрачными, а опыт общения с иностранцами ограниченным, жестокие и часто смертельные акты насилия против иностранцев происходили в Хойерсверде, Дрездене, Ростоке-Лихтенхагене и многих других общинах и вскоре перекинулись на Западную Германию. К 1993, экстремисты, настроенные против иностранцев, убили почти 50 не немцев, а к концу десятилетия — более 100.
Действительно ли концепции иммигрантской нации пришел конец, как многие предупреждали? Лучшие доказательства говорят об обратном. В ответ на убийства сотни тысяч немецких протестующих (по некоторым оценкам, более миллиона) вышли на улицы, чтобы публично противостоять насилию. Это были мужчины и женщины всех возрастов, слоев общества и политических убеждений. Многие никогда раньше не демонстрировались. Но они хотели, чтобы мир знал, что «мы не такие». «Мы» были для них важны. Ибо они призывали против ксенофобных националистов среди них и за более инклюзивную нацию. А к концу 19В 90-е годы этот всеобщий призыв стал трансформироваться в жесткую политику. В 2000 году новые положения о гражданстве отразили новый инклюзивный дискурс, сделав значительные уступки jus soli , идее о том, что вы являетесь гражданином места, где вы родились, в отличие от jus sanguinis , более старой немецкой меры, определяющей гражданство по крови. Почти сразу около миллиона иммигрантов стали гражданами Германии. С середины 1990-х годов количество бинациональных браков удвоилось и составляет более 7% всех гетеросексуальных браков в Германии. Однако новая иммиграционная нация была далеко не безальтернативной территорией, как показал подъем ксенофобских популистов в разгар кризиса беженцев 2016 года.
Это были мужчины и женщины всех возрастов, слоев общества и политических убеждений. Многие никогда раньше не демонстрировались. Но они хотели, чтобы мир знал, что «мы не такие». «Мы» были для них важны. Ибо они призывали против ксенофобных националистов среди них и за более инклюзивную нацию. А к концу 19В 90-е годы этот всеобщий призыв стал трансформироваться в жесткую политику. В 2000 году новые положения о гражданстве отразили новый инклюзивный дискурс, сделав значительные уступки jus soli , идее о том, что вы являетесь гражданином места, где вы родились, в отличие от jus sanguinis , более старой немецкой меры, определяющей гражданство по крови. Почти сразу около миллиона иммигрантов стали гражданами Германии. С середины 1990-х годов количество бинациональных браков удвоилось и составляет более 7% всех гетеросексуальных браков в Германии. Однако новая иммиграционная нация была далеко не безальтернативной территорией, как показал подъем ксенофобских популистов в разгар кризиса беженцев 2016 года. А ведь и здесь, как и в 19В 90-е годы количество немцев, вышедших на публичные демонстрации за толерантность и протянувших руку помощи, было похвально.
А ведь и здесь, как и в 19В 90-е годы количество немцев, вышедших на публичные демонстрации за толерантность и протянувших руку помощи, было похвально.
Кропотливая работа по увековечиванию памяти, отсутствовавшая в прежние десятилетия, теперь была продолжена с удвоенной силой
Самым примечательным изменением было, однако, третье: как Германия встретила свое прошлое. Не сразу с этим столкнулся. Конечно, можно оправдать утверждение, что только после того, как основные военные испытания были пройдены, а реституция собственности была урегулирована и урегулирована, можно было даже начать подлинный и честный поворот к прошлому. Следуя этой логике, можно было ожидать всплеск интереса к национал-социалистическому прошлому после процессов конца XIX века.50-х и начала 60-х. Но в конце 1960-х страстное убеждение, а не терпеливое переосмысление, было в порядке вещей, а политическая идеология вместо углубленного исторического анализа часто мешала пониманию. Остается спорным утверждение о том, что серьезный и устойчивый интерес к периоду национал-социалистов не возник в конце 1960-х, а вместо этого наступило «второе забвение», как описал 1970-е один ведущий западногерманский историк.
Интерпретация, которая преуменьшает значение прорыва конца 19 века.60-е переносят поворот на конец 1970-х и начало 80-х, когда сошлись четыре события. Первым было 40-летие в 1978 году Ноябрьского погрома ( Хрустальная ночь ) 1938 года; он породил множество памятных дат, особенно в крупных городах Западной Германии. Вторым был показ мини-сериала американского телевидения « Холокост » (1978). Некоторую часть его видели до 20 миллионов немцев, в основном в Федеративной Республике, и сама его повествовательная структура побуждала их идентифицировать себя с главной героиней — бесстрашной Ингой Хелмс Вайс, которую играет Мерил Стрип, которая вышла замуж за еврейскую семью. и сделала все возможное, чтобы спасти их. Третьим событием, обсуждаемым реже, стало завершение длившихся два десятилетия дебатов о сроках давности для нацистских преступлений, с близким голосованием в западногерманском парламенте — 255 за отмену таких правовых щитов, 222 против — позволяя властям Западной Германии продолжать охоту на нацистов, виновных в убийстве. И, наконец, четвертое мероприятие: крупный всеукраинский конкурс сочинений для старшеклассников 1981, около 13 000 материалов на тему «Повседневная жизнь в национал-социализме».
И, наконец, четвертое мероприятие: крупный всеукраинский конкурс сочинений для старшеклассников 1981, около 13 000 материалов на тему «Повседневная жизнь в национал-социализме».
Слияние этих четырех событий создало эффект цунами. Исследования — в школах и сообществах — резко возросли. По всей стране буквально тысячи школьных учителей, архивариусов, пенсионеров, заинтересованных граждан и школьников — таких, как реальная Анна Росмус, чья история была рассказана в фильме Майкла Верховена «: Противная девчонка » (1990) — копались в местных записях и исследовали, что происходит в их собственных общинах, часто работая с евреями, которые когда-то жили в этих городах и поселках, а теперь находятся в Израиле, Франции, Великобритании, Аргентине или США. Внезапно кропотливая работа по увековечиванию памяти, которая отсутствовала в прежние десятилетия, стала проводиться с удвоенной силой. Люди восстановили синагоги, обнажили заброшенные бараки, которые когда-то использовались для размещения подневольных рабочих, и обнаружили буквально сотни подлагерей концентрационных лагерей по всей немецкой сельской местности. Они выступали с речами, писали статьи, издавали книги. Вряд ли какой-либо город в Германии с населением более 20 000 человек, в котором когда-то жили евреи, не остался без отчета о том, что тогда произошло, и какая судьба постигла живших там евреев – бывших евреев Mitbürger , как их теперь стали называть многие немцы.
Они выступали с речами, писали статьи, издавали книги. Вряд ли какой-либо город в Германии с населением более 20 000 человек, в котором когда-то жили евреи, не остался без отчета о том, что тогда произошло, и какая судьба постигла живших там евреев – бывших евреев Mitbürger , как их теперь стали называть многие немцы.
История того, как Германия столкнулась со своим прошлым, часто рассказывалась, совсем недавно в книге Сьюзен Нейман « Учимся у немцев: раса и память о зле » (2019). Менее распространено связывать это с конфронтацией Германии со своим милитаристским прошлым и ее превращением в иммигрантскую нацию. Именно слияние этих трех способов попытки построить Германию заново — превращение ее в миролюбивую нацию, иммигрантскую нацию и правдивую нацию — позволило немцам выйти из националистической клетки, которую Китенхойв называл Отечеством.
Конечно, метафора не идеальна. В основном немцы не выходили из этой клетки, оставляя за собой нацию; они, в основном, не стали космополитами или европейцами, даже если для некоторых это был путь.


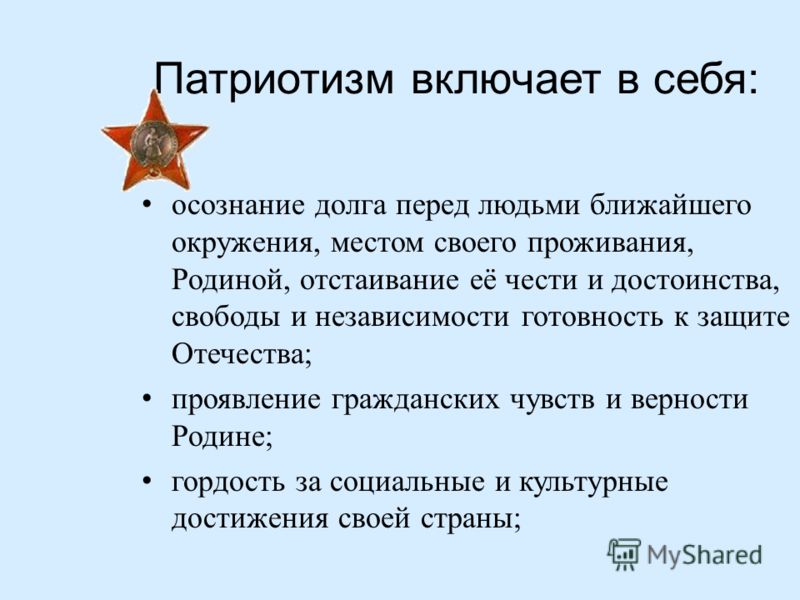 Чтобы снова не повторилось кошмар прошлых времен, надо заботиться о собственную Родину, охранять ее покой, беречь ее поля и леса. Без этого она погибнет, а вместе с тем и мы останемся без Отечества.
Чтобы снова не повторилось кошмар прошлых времен, надо заботиться о собственную Родину, охранять ее покой, беречь ее поля и леса. Без этого она погибнет, а вместе с тем и мы останемся без Отечества. Иначе нас нельзя будет назвать верными сыновьями или дочерьми родной земли. Мы даже не будем ее пасынками, а настоящими врагами, коварны и подлы. Ведь никто не пожелает для своего Отечества быть рабыней, подчиняться ненавистным завоевателям, страдать и лить слезы, тем более, что именно мы будем виноваты в ее рабстве, потому что вовремя не стали на ее защиту. Очень не хочется, чтобы нам когда-то довелось ощутить себя подневольными, знать, что нет уже надежды на счастливое будущее. Это понимали все настоящие патриоты, все верные сыны нашей Родины. Недаром наш Великий Кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко так настаивал, чтобы украинский народ поднимался на борьбу против поработителей, недаром то же самое пыталась сказать своими произведениями и Леся Украинка. Это знали и Василий Симоненко, и Василий Стус, и еще множество пламенных патриотов, беззаветно преданных своей Отчизне. Это понимали те бойцы, которые сложили свои головы в крупных сражениях за счастье и свободу Украины. Особенно страшной была Великая Отечественная война, которая унесла жизни многих миллионов украинцев, и не только украинцев.
Иначе нас нельзя будет назвать верными сыновьями или дочерьми родной земли. Мы даже не будем ее пасынками, а настоящими врагами, коварны и подлы. Ведь никто не пожелает для своего Отечества быть рабыней, подчиняться ненавистным завоевателям, страдать и лить слезы, тем более, что именно мы будем виноваты в ее рабстве, потому что вовремя не стали на ее защиту. Очень не хочется, чтобы нам когда-то довелось ощутить себя подневольными, знать, что нет уже надежды на счастливое будущее. Это понимали все настоящие патриоты, все верные сыны нашей Родины. Недаром наш Великий Кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко так настаивал, чтобы украинский народ поднимался на борьбу против поработителей, недаром то же самое пыталась сказать своими произведениями и Леся Украинка. Это знали и Василий Симоненко, и Василий Стус, и еще множество пламенных патриотов, беззаветно преданных своей Отчизне. Это понимали те бойцы, которые сложили свои головы в крупных сражениях за счастье и свободу Украины. Особенно страшной была Великая Отечественная война, которая унесла жизни многих миллионов украинцев, и не только украинцев.
